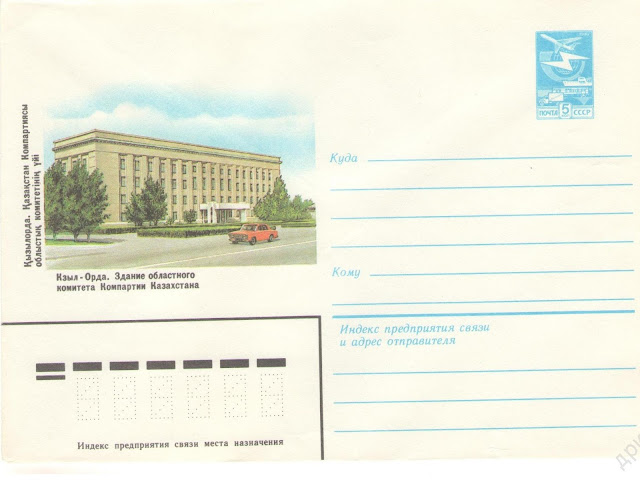"...Был театр окутан мглою.
Ждали новой пантомимы,
Над вечернею толпою
Зажигались фонари".
70 лет назад только
193 дня оставалось до того момента, когда партия даст советскому театроведу
Ефиму Григорьевичу Холодову по шапке за космополитизм:
"К итогам
театрального сезона
Еф. Холодов
Почему молчит
профессор Лосев
1.
В "Великой
силе" (См. статью "Милягин и другие", "Литературная
газета", № 56) вскользь упоминается о том, что профессор Милягин
недостойно вел себя за границей. Нам, знающим уже Трофима Игнатьевича, легко в
это поверить, но в чем именно сказалось его недостойное поведение, мы из
спектакля так и не узнаем.
Правда, представить
себе, как вел в заграничной командировке профессор Милягин, весьма нетрудно:
примерно так же, надо полагать, как профессор Лосев.
Впрочем, если вы не
успели посмотреть пьесу Александра Штейна "Закон чести", премьера
которой состоялась в самом конце истекшего театрального сезона в Московском
театре драмы, - вы еще не знакомы с Сергеем Федоровичем Лосевым.
Советуем
познакомиться, любопытнейший экземпляр из породы милягиных.
Внешне никакого
сходства. Суховатый, замкнутый, подчеркнуто холодный Лосев, каким играет его
Григорий Кириллов, совсем не похож на вечно улыбающегося, такого общительного и
разговорчивого григорьевского Милягина. Трофим Игнатьевич сравнивает себя с
колобком, - Сергей Федорович вот уж никак не похож на колобок. Милягин весь
состоит из округлостей, Лосев – из острых и прямых углов. Милягин шутлив, Лосев
ироничен. Оба они неискренни, оба актерствуют, но если Милягин разыгрывает этакого
развязного янки, то Лосев смахивает на "респектабельного"
англичанина.
Впервые мы видим
Лосева в хале заседаний Академии медицинских наук.Он только что вернулся из
заграничной командировки и отчитывается в поездке.
Стараясь ничем не
выдать своего торжества, он спокойно, даже чуть-чуть иронически рассказывает о
том, что известие об обезболивающем препарате Добровольского-Лосева произвело
за океаном настоящий фурор. Ему и Алексею Алексеевичу
Добротворскому присвоено "гонорис кауза" звание доктора в двух университетах.
Обо всем этом Лосев
повествует сдержанно, с чувством собственного достоинства, без милягинского
умиления. Но почему-то в самой этой сдержанности чувствуется что-то деланное,
напряженное. Может быть, боязнь сказать лишнее?
- Даже печать Херста
и Паттерсона-Маккормика, обычно клевещущая на все, что делается в Советском
Союзе, - соизволила почтить нашу работу своим благосклонным вниманием…
Не правда ли, это
"соизволила почтить" звучит вполне саркастически? Не правда ли,
профессор Лосев дал вам почувствовать, что вовсе не склонен переоценивать
значение признания его заслуг реакционной американской печатью?
Сергей Федорович
доволен: ему удалось, кажется, найти верный тон. Но внезапно его прерывает
академик Верейский:
- И это настолько
умилило вас, что вы решили уступить первенство советской науки американским
фирмам? Как Исав Иакову – за чечевичную похлебку?
Общее движение. Шум.
Голоса: "Что, что такое!", "Что он сказал?",
"Почему?" Все возбуждены, - все, кроме Лосева. Кириллов точно играет
авторскую ремарку: "Лосев невозмутимо ждет, пока кончится шум".
Да, Лосев – это вам
не Милягин. Тот бы возмущался или притворится бы возмущенным, объяснялся бы,
оправдывался, уверял, что "никто не умиляется". Лосев не таков – он
невозмутим.
Не соблаговолит ли
академик Верейский объяснить, что означает его реплика? Да, соблаговолит. В
руках у Верейского американский журнал.
- Так вот, в этом
журнале сообщается. Что вы, профессор Лосев, изъявили намерение отдать рукопись
с подробным описанием изготовления вашего препарата медицинскому издательству в
Нью-Йорке… Насколько известно мне, книгу вашу вы еще в Москве не опубликовали,
да и рано, насколько мне известно, ее опубликовывать. Я спрашиваю – достойно ли
это советского ученого?
Лосев молчит.
Верейский требует ответа.
- Почему молчит
профессор Лосев? Вручил он американцам рукопись книги или нет? Почему он
молчит?
Лосев молчит.
Напрасно Верейский в гневе стучит кулаком по столу: "Говорите честно – да
или нет?"
Честно? Но ведь это
значит сказать… "да". Это значит примерно сказать так:
- Да, я, профессор
Лосев, выучившийся на деньги советского государства, всем обязанный советской
власти, передал описание важнейшего открытия американской фирме. Я сделал это
вполне сознательно – перед отъездом в Америку я тайно снял копию с рукописи,
хранящейся в сейфе профессора Добротворского. Да, наш труд не опубликован еще в
Москве. Ну и что же?
Какое мне, Лосеву,
дело до приоритета советской науки? Подумал ли я о том, что наше открытие может
быть использовано американскими империалистами во вред моему отечеству? Нет. Я
просто не думал о своем отечестве. Мне нужна слава.
Если вас шокирует
подобная откровенность, я могу предложить более благовидное толкование моего
поступка. Наука, видите ли, принадлежит всему миру, и, в конце концов, безразлично,
где и на каком языке будет впервые произнесено это новое слово науки, - важно,
чтобы это новое слово было сказано. Я и сам знаю, что это не так, но если
находятся люди, подобные моему коллеге Алексею Алексеевичу Добротворскому,
которые верят в эту иезуитскую фразу, почему бы мне и не прикрыться плащом
космополитизма?
Вот что должен был
сказать профессор Лосев, но с видом оскорбленного достоинства он демонстративно
покидает зал.
2.
Теперь мы уже знаем,
что горделивая замкнутость и суховатость для него такая же маска, как для
Милягина общительность и благодушие. Лосев предпочитает казаться загадочным,
чем оказаться разгаданным. Самоуверенность Лосева, как и самодовольство
Милягина, -блеф. Лосев, как и Милягин, не может чувствовать себя уверенным в обществе,
этические нормы которого им нарушаются.
Лосев говорит
Добротворскому: "Вы всегда думаете о людях лучше, чем они того
заслуживают". Сам он видит в людях одних лосевых – завистников,
честолюбцев и интриганов. Он не верит в их бескорыстие, ибо не знает, что такое
бескорыстное служение народу. Беспринципный, он не может и не хочет признать
принципиальности побуждений своих противников.
Противников? Да,
если Милягин, как мы видели, не мог позволить себе роскошь иметь врагов, то
Лосеву кажется, что он достаточно силен для того, чтобы принять бой за свое
собственное благополучие.
На что же он
рассчитывает? Быть может, на свои научные заслуги? Нет, на этот счет профессор
Лосев вряд ли заблуждается. Кто-кто, а он знает, что доля его участия в
открытии препарата не велика.
Послушаем, что
говорят о нем:
- Бывший ученый.
- Он теперь не
делает науку, а представительствует ее.
И даже
Добротворский, желая подчеркнуть заслуги своего коллеги, говорит:
- Он высвободил меня
для науки.
Да, Лосев давно уже
перестал сеять,- он только жнет. Жнет – и только для себя; собирает плоды – и
только в собственные руки.
Так на что же, в
конце-концов, рассчитывает профессор Лосев?
В минуту
откровенности он признается Добротворскому:
- Я предвидел, я все
предвидел! Еще до отъезда в Америку… Я знал, завистники, - а у нас их много, -
будут, как огня, бояться нашей мировой славы… она выбъет у них почву из-под
ног. Я непрестанно думал об этом, и я… я принял меры самозащиты…
Мы уже знаем, в чем
выразилась эта "самозащита", - передача еще не опубликованной
рукописи американской фирме, рекламная шумиха за океаном, звание, присужденное
"гонорис кауза" в двух университетах…
В этом, если хотите,
есть своя логика. В нашей социалистической стране нет такой силы, на которую
мог бы опереться эгоист и карьерист. Он ищет эту силу за рубежом, в стане наших
врагов.
Лосев изобличен. Суд
чести сорвал с него маску и показал его истинное лицо.
- Сейчас начнется
закрытая конференция, - говорит в самом конце пьесы профессор Добротворский,
преграждая Лосеву вход в лабораторию, где они еще недавно вдвоем работали. –
Посторонним вход воспрещен.
Лосев:
- Я не посторонний.
Добротворский:
- Нет, посторонний.
Посторонний советской науке человек.
3.
Это очень правильно
сказано.Это говорит Добротворский – тот самый профессор Добротворский, который
так упорно брал Лосева под свою защиту, который не видел ничего дурного, ничего
недостойного в поведении своего коллеги.
Добротворский
заблуждался.
Этим, как будто, все
сказано. Но, по существу, этим сказано еще очень мало.
Возникает вопрос:
почему же он заблуждался?
Скажут: его ввел в
заблуждение Лосев.
Верно. Но ведь было
что-то в самом профессоре Добротворском, что лишало его иммунитета, как говорят
медики, перед бациллой космополитизма. Что же именно?
Аполитичность.
Смолоду усвоенный пиетет перед иностранной наукой. Несколько гипертрофированное
честолюбие. Ослабление связей с коллективом.
Тут-то и подоспел
Лосев.
Добротворский наивно
полагает, что он вполне самостоятелен и независим, когда с пафосом восклицает:
"Государства имеют границы, наука их не имеет!"
Но ведь это –
милягинская фраза. Это – лосевская фраза.Более того: это интерпретация афоризма
из американского журнала "Лайф": "Наука не знает географических
границ".
Разница заключается
в том, что Добротворский искренно верит в это изречение, в то время как Лосев,
не говоря уже о продажных писаках из "Лайфа", прекрасно знает, что
это – обман чистейшей воды.
Звонкая фраза о
"единой и неделимой" мировой науке, якобы нем ведающей географических
границ, представляет собою самую циничную ложь.
Такой науки нет и
быть не может.
Омерзительные идейки
космополитизма не могли бы рассчитывать на влияние в среде нашей интеллигенции,
если бы не прикрывались идеями интернационализма. Нам надо решительно срывать
эту маску и обнажать перед народом подлинное предательское лицо буржуазного
космополитизма. Проникновение идеи космополитизма – это не что иное, как
вражеская идеологическая диверсия. Утверждения, что, дескать, неважно, где
именно сделано открытие, неважно, где оно будет впервые опубликовано, неважно,
за кем останется приоритет, - объективно на руку только вражеским соглядатаям и
шпионам.
Честь, достоинство,
патриотический долг требуют от наших ученых бдительной охраны приоритета
советской науки. "Закон чести" очень наглядно и убедительно
показывает, к чему может привести доверие к космополитическим приманкам.
Лосев никогда не
посмел бы сказать Добротворскому: "Что нам, дескать, Алексей Алексеевич,
заботиться об интересах государства, позаботимся лучше о самих себе!" Нет,
он говорит иначе: "Поймите, Алексей Алексеевич, оттого, что мы с вами
мировое признание получим, государство наше не проиграет, а выиграет".
Он умалчивает, что
это "мировое признание" будет куплено ценой утраты приоритета
советской науки. Он умалчивает о том, что это открытие попав в руки торгашеских
и империалистических кругов, может быть использовано в ущерб нашему
государству.
Все это
Добротворский понял позже.
Суд чести открыл ему
глаза на многое. Он понял, что такое профессор Лосев. Он понял и прочувствовал,
как глубоко и пагубно заблуждался проф. Добротворский.
В пьесе кто-то
говорит о Добротворском: "Это не человек, а явление". Театр, кажется,
опустил эту реплику, и правильно сделал. В спектакле Добротворский, каким его
играет Александр Ханов, не некое отвлеченное явление, а живой, настоящий
человек. Точнее: именно поэтому театру и удалось обнаружить явление, что
он сумел правдиво и убедительно показать человека.
Обращение к
животрепещущим темам современности, смелое раскрытие реальных жизненных
противоречий, воинствующая идейность, - вот что решило успех пьесы и спектакля".
("Литературная
газета", 1948, № 57 (17, июль), с. 3).